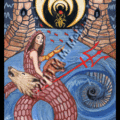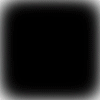ФАЗЫ ЛУНЫ Уильям Батлер Йейтс
ФАЗЫ ЛУНЫ Уильям Батлер Йейтс
ФАЗЫ ЛУНЫ Уильям Батлер Йейтс
|
Фазы Луны Прислушался старик, на мост взойдя. Ахерн. Что там за звук? Робартс. Камышница плеснулась, Ахерн. А почему б тебе, кто все познал, Робартс. Он обо мне писал цветистым слогом, Ахерн. Так спой еще о лунных превращеньях! Робартс: Луна проходит двадцать восемь фаз, Ахерн. Спой песню до конца, да не забудь Робартс. Мысль в образ претворяется, и телом Ахерн. Так вот каков предел Робартс. А ты не знал? Ахерн. Поется в этой песне: Робартс. Кто полюбил, тот знает это сердцем. Ахерн. А этот ужас в их глазах — должно быть, Робартс. Когда луна полна, ее созданья Тут Ахерн рассмеялся ломким смехом, Робартс. И вот луна склоняется к ущербу. Ахерн. До полнолунья Робартс. Безвестен ты, и на пороге смерти, Ахерн. А что о тех, Робартс. Тьма, как и полный свет, их исторгает Ахерн. А что потом? Робартс. Как вымесится тесто, Ахерн. А избавленье? Что ж ты не допел? Робартс. Горбун, Святой и Шут — Ахерн. Когда б не так далеко до постели, Сказал и рассмеялся от того, |
An old man cocked his ear upon a bridge; AHERNE What made that sound? ROBARTES A rat or water-hen AHERNE ROBARTES He wrote of me in that extravagant style AHERNE Sing me the changes of the moon once more; ROBARTES Twenty-and-eight the phases of the moon, AHERNE Sing out the song; sing to the end, and sing ROBARTES All thought becomes an image and the soul AHERNE All dreams of the soul ROBARTES Have you not always known it? AHERNE The song will have it ROBARTES The lovers’ heart knows that. AHERNE It must be that the terror in their eyes ROBARTES When the moon’s full those creatures of the full And thereupon with aged, high-pitched voice ROBARTES And after that the crumbling of the moon. AHERNE Before the full ROBARTES Because you are forgotten, half out of life, AHERNE And what of those ROBARTES Because all dark, like those that are all light, AHERNE And then? ROBARTES When all the dough has been so kneaded up AHERNE But the escape; the song’s not finished yet. ROBARTES Hunchback and saint and fool are the last crescents. AHERNE Were not our beds far off I’d ring the bell, And then he laughed to think that what seemed hard |
‘Фазы Луны’ У.Б. Йейтса: комментарии
Стихотворение «Фазы Луны» тесно связано с трактатом Йейтса «Видение».

|
|
|
• Майкл Робартс и Оуэн Ахерн, на диалоге которых строится это стихотворение, — персонажи ранних рассказов Йейтса. Робартс (представитель антитетического принципа, искатель оккультных откровений и магического опыта) и Ахерн (представитель первичного принципа, старик-католик, апологет традиционной веры) ведут между собой нескончаемый философский спор.
Первоначально Йейтс хотел представить систему «Видения» в форме диалога между Робартсом и Ахерном, а в первой редакции трактата использовал сложную литературную мистификацию: изложенное в трактате учение якобы вверил Йейтсу для публикации Майкл Робартс. Робартс, в свою очередь, почерпнул это учение из латинской книги средневекового ученого Гиральда Камбренского «Зерцало ангелов и людей» (Гиральд — вымышленный или, точнее, собирательный образ; прототипом для его портрета, включенного в издание, послужил сам Йейтс) и тайных знаний арабского племени юдвали, традиционно передававшихся в виде мистических чертежей на песке (племя юдвали — также вымышленное; название его произведено от арабского adwal» — «чертеж, схема»).
По легенде, разработанной Йейтсом, первоначально Робартс намеревался обнародовать это учение с помощью Ахерна, но тот отказался, не пожелав выступить с пропагандой учения о реинкарнации, противоречащего христианским догматам. И Робартсу ничего не осталось, как обратиться к Йейтсу. Однако в стихотворении «Фазы луны» вечные оппоненты Робартс и Ахерн объединяются в насмешках над «человеком в башне» — будущим автором «Видения». Здесь они предстают в образах простых крестьян из Коннемары — округа в ирландском графстве Голуэй.

|
|
|
• В Голуэе находится реальный протитоп той самой башни, где автор тщетно «ищет в книгах // То, что ему вовеки не найти», — башня Тур Баллили, норманнская крепость XVI века. Йейтс приобрел ее в 1916 г. и после реставрации старинного здания поселился там со своей семьей. Образ башни занял важнейшее место в его поэзии, а сама Тур Баллили стала настоящим памятником поэту и символом его позднего творчества. С 1965 г. в ней располагается музей Йейтса.
• «Платоник Мильтона», с которым Робартс сравнивает Йейтса, погруженного в свои бессонные труды, — герой поэмы Джона Мильтона «Il Penseroso» («Задумчивый»), одинокий искатель тайной истины, «слуга Меланхолии»:
…Порой сижу у ночника
В старинной башне я, пока
Горит Медведица Большая,
И дух Платона возвращаю
В наш мир с заоблачных высот,
Где он с бессмертными живет,
Иль тщусь, идя за Трисмегистом
Путем познания тернистым,
Заставить слушаться меня
Тех демонов воды, огня,
Земли и воздуха, чья сила
Стихии движет и светила (рус. пер. Ю. Корнеева).
• Как иллюстрация к этой поэме была задумана упомянутая далее «гравюра Палмера» — работа под названием «Одинокая башня», выполненная английским художником-романтиком Сэмюэлом Палмером (1805—1881).

|
|
|
• К этому же образному ряду относится и «духовидец-принц // У Шелли» — принц Атанас из неоконченной одноименной поэмы Перси Биши Шелли: душа Атанаса «обручена с Мудростью»; он затворился «вдали от людей, в одинокой башне».
• И, наконец, обида, которую затаил на Йейтса Майкл Робартс («Он обо мне писал цветистым слогом, // Что перенял у Пейтера, а после, // Чтоб завершить рассказ, сказал, я умер»), связана с ранним рассказом Йейтса «Rosa Alchemica», в котором Робартс предстает как глава оккультного ордена Алхимической розы. Рассказ написан от первого лица, и в финале рассказчик бросает Робартса на верную смерть. Упомянутый здесь Пейтер — Уолтер Пейтер (1839—1894), английский филолог-классик, один из главных идеологов эстетизма, «создатель Нового гедонизма», по выражению Оскара Уайльда. У Пейтера Йейтс заимствовал некоторые существенные элементы художественной эстетики: принцип сочетания изысканности формы с предельной интенсивностью эмоционального переживания, а также идеал одинокого экстаза, открывающийся творцу подлинной красоты. Обе эти концепции сыграли важную роль в разработке описания 15-й фазы (полнолуния) — точки триумфа абсолютной красоты.
Взято с сайта Анны Блейз.
.